Драматизм образа Юрека

Драматизм образа Юрека противостоит драматизму образа Колина и во многом снижает, компрометирует его. Юрек — коммунист, и его жизненный путь не был прост, но он верил и продолжает верить в «гуманистическую сущность коммунизма». «Проблема вашей молодежи — попробовать понять людей, подобных мне… Не изолироваться. Не дать победить себя»,- говорит он Колину и Фрэнсис.
Атмосфера страха

В выборы играют, в политику также. О Баттервайте говорят, что у него наполеоновский организационный талант: достаточно трех человек — одного сделать председателем, другого секретарем, В партийный комитет составлен. Это Баттервайт вырос в работном доме. И он сам исполняет залихватскую песенку — о том, как был ослом, а затем вдруг превратился в человека. Вот только — превратился ли? Гротесково написанные, сознательно грубо окарикатуренные автором персонажи напоминают театральные маски, поданные вызывающе броско. Герои обращаются к залу, герои поют н пританцовывают. Консерваторы добиваются, чтобы в городе была открыта картинная галерея; лейбористы препятствуют этому. Все это в равной степени не имеет никакого смысла. Баланс, осуществляемый автором, неуклонно ведет к единственно возможному выводу: несостоятельна, абсурдна политика обеих партии.
Внешняя картина
Внешняя картина почти ясна: прекрасные города, с концертными залами и школами — города художников и учителей; города, окаймленные рощами и озерами с великолепными спортивными стадионами. Города, где все живут равно близко от центра, и во всем остальном условия также совершенно одинаковы для всех. Города с множеством цветов, с тенистыми аллеями и парками. Города для любящих, для детей, для стариков. Экономическая, политическая основа жизни в этих городах значительно менее отчетлива. Ясно только одно: Энди хочет, чтобы дома принадлежали тем, кто живет в них, а фабрики тем, кто на них работает. Но как осуществить все это?
Города, где все живут равно близко от центра, и во всем остальном условия также совершенно одинаковы для всех. Города с множеством цветов, с тенистыми аллеями и парками. Города для любящих, для детей, для стариков. Экономическая, политическая основа жизни в этих городах значительно менее отчетлива. Ясно только одно: Энди хочет, чтобы дома принадлежали тем, кто живет в них, а фабрики тем, кто на них работает. Но как осуществить все это?
Духовная жизнь современников

С первых же лет представителей «новой волны» в английской драматургии объединила убежденность в том, что реформировать надо и драму, и театр. Их сблизила вера в силу и значительность театрального искусства в воздействии на духовную жизнь современников. «Мы, связавшие свою судьбу с театром, обладаем силой, и мы не имеем права недооценивать, как иной раз делаем, степень этой силы»,- писал Осборн, выражая уверенность, что театр может быть и постепенно становится «самым убедительным оружием времени».
Скудные наблюдения
Заслоняя поверженную фигуру Томсона, на авансцену, чеканя шаг, выходит взвод солдат, занятых строевой подготовкой. «В этой сценической метафоре с публицистической страстностью раскрывается антимилитаристская тема спектакля»,- пишет советский критик М. Любомудров. Ю. Завадский и В. Марецкая так описывают другую сцену того же спектакля — трагическую сцену бегства из лагеря замученного муштрой солдата Улыбки: «Улыбка бежит из лагеря, но это — бег на месте. Декстер делает его при помощи света: Улыбка па авансцене несется навстречу неизвестности, а прожектор выхватывает то его искаженное детское лицо, то мелкающую перед ним дорогу, то судорожные движения рук и ног, порывисто рассекающие воздух. Меньше света — темнее кругом, больше — луна появилась… Задохнувшись, Улыбка останавливается, посылает проклятия своим мучителям, и снова — ночная дорога. Бег на месте — не столько находка режиссера, сколько точный символ безысходного положения беглеца, которого ждет лишь одно — возвращение и расправа» .
«В этой сценической метафоре с публицистической страстностью раскрывается антимилитаристская тема спектакля»,- пишет советский критик М. Любомудров. Ю. Завадский и В. Марецкая так описывают другую сцену того же спектакля — трагическую сцену бегства из лагеря замученного муштрой солдата Улыбки: «Улыбка бежит из лагеря, но это — бег на месте. Декстер делает его при помощи света: Улыбка па авансцене несется навстречу неизвестности, а прожектор выхватывает то его искаженное детское лицо, то мелкающую перед ним дорогу, то судорожные движения рук и ног, порывисто рассекающие воздух. Меньше света — темнее кругом, больше — луна появилась… Задохнувшись, Улыбка останавливается, посылает проклятия своим мучителям, и снова — ночная дорога. Бег на месте — не столько находка режиссера, сколько точный символ безысходного положения беглеца, которого ждет лишь одно — возвращение и расправа» .
Классовое неравенство
Свободной композиции большинства последних пьес молодых англичан соответствует тенденция в режиссуре к столь же свободному, разнообразному построению сценического действия.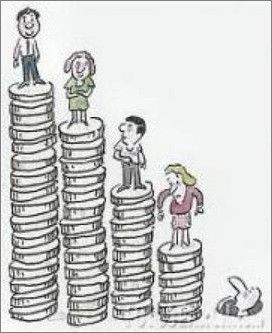 Интересную эволюцию пережил в этом отношении один из самых серьезных и скромных режиссеров Англии — Джон Декстер, основной постановщик пьес Уэскера. Для обоих, и для автора, и для режиссера, работа над «Картошкой ко всем блюдам» приобрела особое значение. Именно в этом спектакле, по мнению критики, Декстеру удалось найти сценическую форму, которая позволила эмоционально, зрительно, театрально усилить основные мысли произведения. «Режиссер Декстер еще острее заставляет почувствовать те невидимые, но могучие классовые барьеры, которые разделяют, отчуждают людей друг от друга. Столетиями сформированное классовое неравенство вошло в самую плоть и кровь людей, глубоко проникло в их сознание. Утончились лишь формы проявления сословной розни — теперь социальные барьеры не подчеркиваются, а прикрываются фальшивой формулой «демократической терпимости»,- утверждают авторы спектакля. Кульминация спектакля — сцена, рисующая духовное поражение героя пьесы Томсона. На военных-учениях Томсон отказывается выполнять упражнения по штыковому бою, он не желает учиться убивать. Томсона заставляют подчиниться. И вот после напряженной паузы он с неистовством отчания, трижды, как в смертельного своего врага, вонзает штык в чучело. И крик Томсона в это мгновение — не боевой клич, требуемый уставом, а стон раздавленной человеческой души. Выполнив приказ, он ничком падает на землю, и его глухие рыдания перекрывают нарастающий гул десятков марширующих йог.
Интересную эволюцию пережил в этом отношении один из самых серьезных и скромных режиссеров Англии — Джон Декстер, основной постановщик пьес Уэскера. Для обоих, и для автора, и для режиссера, работа над «Картошкой ко всем блюдам» приобрела особое значение. Именно в этом спектакле, по мнению критики, Декстеру удалось найти сценическую форму, которая позволила эмоционально, зрительно, театрально усилить основные мысли произведения. «Режиссер Декстер еще острее заставляет почувствовать те невидимые, но могучие классовые барьеры, которые разделяют, отчуждают людей друг от друга. Столетиями сформированное классовое неравенство вошло в самую плоть и кровь людей, глубоко проникло в их сознание. Утончились лишь формы проявления сословной розни — теперь социальные барьеры не подчеркиваются, а прикрываются фальшивой формулой «демократической терпимости»,- утверждают авторы спектакля. Кульминация спектакля — сцена, рисующая духовное поражение героя пьесы Томсона. На военных-учениях Томсон отказывается выполнять упражнения по штыковому бою, он не желает учиться убивать. Томсона заставляют подчиниться. И вот после напряженной паузы он с неистовством отчания, трижды, как в смертельного своего врага, вонзает штык в чучело. И крик Томсона в это мгновение — не боевой клич, требуемый уставом, а стон раздавленной человеческой души. Выполнив приказ, он ничком падает на землю, и его глухие рыдания перекрывают нарастающий гул десятков марширующих йог.
Учения Станиславского
Горячим пропагандистом театральной эстетики Брехта, а также учения Станиславского выступает в Англии многолетний руководитель театра «Уоркшоп», постаповщица пьес Дилени и Биэна Джоан Литтлвуд. Тенденция к синтезу двух этих начал лежит в основе ее режиссерских работ. Ожидание ярких и острых современных пьес пронизывало все творческие поиски руководимого ею театра «Уоркшоп» в по-слевоенные годы. Здесь ощущалась и раньше, до появлении пьес Биэна и Дилени, настоятельная тяга к народному творчеству, к музыкальным спектаклям — так почти сразу после войны была поставлена пьеса Юэпа Маккола «Джонни Нобл», опера-баллада, где рассказывалось о жизни простых людей в одном из портовых городов северо-западного побережья Англии. На сцене театра «Уоркшоп» нередко пользовались своего рода приемом «отчуждения в обратную сторону» — максимального приближения к современности исторических пьес: в костюмах времени первой мировой войны поставила Джоан Литтлвуд шекспировского «Макбета»; в современность было перенесено действие комедии Бен Джонсона «Вольпоне». Театр сторонился салонных пьес модных современных авторов. Он ждал произведений демократических, повествующих о простых людях и интересных народному зрителю. А до тех пор ориентировались на Шона ОКейси, Шоу, Аристофана, Мольера.
Тенденция к синтезу двух этих начал лежит в основе ее режиссерских работ. Ожидание ярких и острых современных пьес пронизывало все творческие поиски руководимого ею театра «Уоркшоп» в по-слевоенные годы. Здесь ощущалась и раньше, до появлении пьес Биэна и Дилени, настоятельная тяга к народному творчеству, к музыкальным спектаклям — так почти сразу после войны была поставлена пьеса Юэпа Маккола «Джонни Нобл», опера-баллада, где рассказывалось о жизни простых людей в одном из портовых городов северо-западного побережья Англии. На сцене театра «Уоркшоп» нередко пользовались своего рода приемом «отчуждения в обратную сторону» — максимального приближения к современности исторических пьес: в костюмах времени первой мировой войны поставила Джоан Литтлвуд шекспировского «Макбета»; в современность было перенесено действие комедии Бен Джонсона «Вольпоне». Театр сторонился салонных пьес модных современных авторов. Он ждал произведений демократических, повествующих о простых людях и интересных народному зрителю. А до тех пор ориентировались на Шона ОКейси, Шоу, Аристофана, Мольера.
Раскаленный утюг

Раскаленный утюг готов ринуться в любую минуту на человека, принять активное участие в начавшейся потасовке. Сам потолок, будто иронически издеваясь, скривился в сторону и грозит обрушиться на головы людей. Духота! Такая духота, что истомленная Элисон бродит по дому в одной комбинации. Такого качества эмоций, такого ритма их развития, такого непримиримого и в то же время детски-капризного и раздраженного конфликта человека со всем, что вокруг, не знала сцена Художественного театра. Недаром Ю. Юзовский написал: «Это был какой-то нервный спектакль, какой-то неуживчиво-раздражительный, сварливый и одновременно чем-то привлекательный спектакль».
Влияние, идущее от Брехта

Влияние, идущее от Брехта, в большей мере даже от его театральной практики, чем от теории, проявляет себя внешне более демонстративно. Это Брехт побудил англичан просмотреть свои национальные традиции, обратить особое внимание на актуальность социальной проблематики пьес и доходчивость и остроту театральной формы. Брехт вернул английский театр к Шоу, как когда-то, в свою очередь, Шоу подготовил во многом театральную эстетику и публицистаческий пафос насквозь просветительского, пропагандистского театра Брехта.
Первые пьесы

Особняком стоял до последнего времени Арден. Его первые пьесы ставились неохотно и неуверенно, не имели шумного успеха. Театральная эстетика этого безусловно одного из наиболее оригинальных и сложных современных английских драматургов не сразу была понята и раскрыта театрами. Осборн, Биэн, Уэскер, Дилени, напротив, тотчас стали репертуарными, удачливыми авторами, способствовали успеху молодых прогрессивных театральных коллективов. Почти каждый нашел своего, особенно близкого режиссера, который, в свою очередь, помог наиболее глубокой и точной передаче идейного и художественного содержания пьес. Уэскер многим обязан Джону Декстеру, Биэн и Дилени — Джоан Литтлвуд, Осборн — Тони Ричардсону, поставившему «Оглянись во гневе», «Комедианта», «Лютера».
 Собственный «театр абсурда»
Собственный «театр абсурда» Современная английская драма
Современная английская драма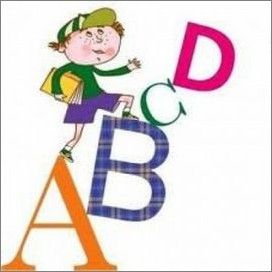 Конец Колина
Конец Колина Вторая поправка Мерсера
Вторая поправка Мерсера Первая поправка
Первая поправка Творческая эволюция
Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма
Эксперимент строительства социализма